|
|
 |
|
|
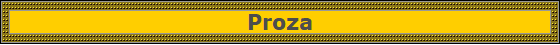 |
 |
 |
|
|
Истории, которые я всё время рассказываю
Рихтер
1. (Слышал от Олега Кагана)
Милан. Рихтер показывает Олегу город. Миланский собор. Воскресенье. Красиво. Голуби. Итальянцы (Рихтер вообще очень любил Италию). Вдруг - громкое нескладное пение хором. Это демонстрация (коммунистическая). Красные флаги. Идут, поют, орут. Их несколько сотен. У Рихтера кривится лицо. “Олег, что это такое?” - “Ну, Святослав Теофилович, это вот демонстрация” - “Какой ужас! Это просто безобразие! Это надо остановить! Так некрасиво!” - “Ну, как же это можно остановить?” - “А вот я сейчас их остановлю!” - “Святослав Теофилович, может быть, это опасно!?” - “Вот и прекрасно!”
И Рихтер выходит на середину улицы эдак за 20-30 метров до приближающейся толпы. Стоит неподвижно. Ничего не делает, просто стоит (надо представить себе его плотную, невероятно значительную фигуру, подбородок, немного выпяченный вперёд - он часто выпячивал его так во время игры, особенно в напряжённых местах...). Стоит. Демонстрация приближается. Так же громко и нагло орут, поют. Олег остаётся на тротуаре, с тревогой смотрит на всё это. Но вот выкрики становятся тише, люди замедляют ход, перестают петь. Наконец, шагах в 5-6 от неподвижного Рихтера вся эта многосотенная толпа останавливается, стоят совсем тихо, ждут. Рихтер тоже ждёт пару минут, потом поднимает правую руку и медленно и торжественно осеняет их крестом (православным, конечно - он ведь и в самом деле носил православный крест на груди). Так крестят злых духов. Не спеша отходит в сторону. Толпа начинает снова двигаться, но совсем медленно, и не поют больше, и не кричат. Так, в полной тишине, демонстрация идёт дальше. Рихтер и Олег провожают их взглядом, замечают, что некоторые, проходя мимо, опасливо косятся на Рихтера и быстро-быстро крестятся. Рихтер и Олег уходят.
2. (Слышал от Олега Кагана)
Toже Италия. На этот раз - драка. Дерутся мужчина и женщина. Оба пьяные. Дерутся страшно, в кровь. Вокруг - толпа восторженных зевак, которые подбадривают их. А Рихтер как раз сегодня купил себе светлое, мягкое, очень дорогое пальто. Опять: “Олег, что это за безобразие?” - Он решительно проталкивается в середину толпы, снимает пальто, бросает его на мостовую - в пыль и в грязь - и начинает на нём танцевать. Танцует дико, размахивая руками и что-то громко распевая себе в такт (Олег считает, что это был Концерт Чайковского, но может быть, он и ошибается). Драка прекращается. Все с недоумением и со страхом молча смотрят на танцующего Рихтера. Потанцевав ещё несколько минут, Рихтер поднимает пальто и они с Олегом уходят.
3. (Слышал от Рихтера)
В Житомире, когда Рихтер был ещё совсем молодой, он много раз ходил по ночам на холм над рекой, останавливался на краю обрыва, закрывал глаза, протягивал руки вперёд. Стоял так долго и ждал, что кто-то прилетит и коснётся его. Но никто никогда так и не прилетел.
(Это он рассказал, когда разговор зашёл о привидениях. “Вася, вы когда-нибудь видели привидения?” - Я ответил, что два или три раза в раннем детстве видел. Описал подробно, при каких обстоятельствах. Рихтер с некоторой явной завистью спросил: “Но вы действительно их видели?” - и потом рассказал вот это...)
4. (Слышал от Олега или от Ю.Б.)
Прага. Роскошный отель. Рихтеру плохо с сердцем (кажется, вообще в первый раз так серьёзно). Вызывают врача. Кардиограмма. “Немедленно в больницу, это инфаркт!” - С трудом уговорили (терпеть не мог всего этого!). Носилки. “Да нет, уж до лифта-то я сам дойду!” - Входит в лифт. Врачи, санитары. Спускаются. Рихтер выходит из лифта, идёт к выходу, сперва медленно, потом всё быстрее, быстрее, проходит через вертящиеся двери на улицу и - исчезает! Его ищут весь день и всю ночь. Его нигде нет. Обзванивают всех его возможных знакомых - пусто! Паника в Праге и в Москве. На следующий день он появляется - совершенно здоровый, у него ничего не болит, врачи смотрят - ничего не находят, предполагают ошибку в диагнозе... А где он был, он никому не сказал.
5. (Слышал от Рихтера)
Рихтер играет 2-й концерт Брамса. В конце первой каденции громадный подъём к доминанте, и потом должен на полную мощь в долгожданном B-Dur’е грянуть оркестр. Рихтер играет и знает, что хорошо идёт. Вот он, этот подъём, вот она, доминанта, вот сейчас, сейчас, ещё один такт - и тут болван-дирижёр вступает - со всей своей оркестровой мощью - на такт раньше!! Полная катастрофа! Во время длинной оркестровой экспозиции Рихтер думает, что же делать? Настроение ведь совершенно испорчено, концерт погублен! Наконец, ему приходит в голову решение. С заговорческим и саркастическим лицом он смотрит в публику, готовясь вступить - на этот раз со своим громоподобным В-Dur’ом, после доминанты в оркестре - и - вступает на полную мощь, как только он умеет - на такт раньше! После этого, как он говорит, он совершенно успокоился и доиграл концерт до конца. “И самое удивительное, - прибавляет он, - это то, что дирижёр - можете себе представить?! - оба раза ничего не заметил!” - (Ну, в последнее я всё-таки поверить не могу, это уж он так, для красного словца!)
6. Схожий случай с концертом Шумана (но здесь я не уверен, с Рихтером ли это было или это такой общемузыкантский анекдот). Дирижёр берёт первый аккорд (октаву “ми”), не посмотрев на солиста, который, например, вытирает платком руки. Солист должен вступить сразу же после этой октавы, не успевает со своими аккордами, мажет. Всю первую часть он только и думает, как же отомстить. И, конечно, (снова саркастически, как заговорщик, посмотрев в публику) - начинает 2-ю часть неожиданно для дирижёра, и тот промахивается, не успевает... Справедливость восстановлена...
Но, конечно, можно сказать и как Д.: “Бедные Шуман и Брамс!”
7. В связи с предыдущим - Рихтер любил говорить о том, как важно во-время начать то или иное произведение. Например, перед сонатой си-минор Листа надо неподвижно сидеть и считать про себя медленно до 25-ти, и только когда публика тоже совершенно замрёт, в полной тишине взять эту первую октаву “соль” стаккато, а вот соль-минорную сонату Шумана надо начинать сразу, едва поклонившись, иначе не то настроение будет. По этому поводу он рассказывал следующую историю. -
Париж. Рихтера приглашают послушать концерт молодого французского пианиста. “Наша будущая звезда, необыкновенно талантливый мальчик!” - Полный зал Плейель. Первым номером должна исполняться как раз соль-минорная соната Шумана. Как все пианисты знают, она начинается с очень громкого и довольно длинного аккорда (трезвучие соль-минор). Молодой пианист очень нервничает, долго не решается начать (это его первый сольный концерт в таком знаменитом зале, да ещё, наверное, ему сказали, что Рихтер в публике). Он ёрзает на стуле, подкручивает высоту стула то выше, то ниже, поправляет причёску, достаёт платок, убирает платок, примеривается... Наконец, поднимает руки, нацеливается, замахивается, изо всех сил берёт аккорд - и, не рассчитав, по инерции головой ударяется об острый край рояля, падает, теряет сознание, Его уносят. Концерт отменяется, “и, - говорит Рихтер, -об этом мальчике больше никто никогда не слышал!”
8. Рихтер и Глен Гульд (эту историю я слышал от Бруно Монсенжона, с которым 3 часа ехали в поезде в Париж после одного фестиваля. Монсенжон - близкий друг Гульда, сделал много фильмов про него, а также знаменитый фильм о Рихтере. После смерти Рихтера был допущен к его архивам и издал книгу “Дневники Рихтера”. Знает, как он говорит, 18 языков, так что разговаривали мы по-русски. Кроме этой истории, которую см. ниже, рассказывал много интересного про Гульда, например, что тот не имел дома рояля, а занимался только
“в уме”, лёжа на диване и читая ноты. Потом приходил в студию и всё безупречно играл, а если что-то не получалось, какая-то нота не прозвучала, говорил “сегодня что-то инструмент не в порядке!” и уходил домой.)
Итак, однажды Гульд сказал Монсенжону: “Послушайте, почему у Рихтера такие плохие записи? Такой великий пианист и такие плохие записи! Он просто не умеет записывать! Я знаю, вы едете сейчас к нему на фестиваль в Тур, так скажите ему - я его приглашаю ко мне домой, он может жить у меня сколько угодно, хоть год, и мы сделаем с ним замечательные записи, он может играть всё, что он хочет, и я сам буду сидеть за пультом!”
Монсенжон поехал в Тур. Встречает Рихтера. “Святослав Теофилович, вам большой привет от Глена Гульда!” - “А. спасибо, спасибо, ну как он?” - “Хорошо, вот только что записал снова Гольдберг-вариации” - “Ну что, - говорит Рихтер, - делает он теперь все повторения?” - “Многие” - отвечает Монсенжон. - “Нет-нет, - говорит Рихтер, - надо обязательно ВСЕ делать!” - (Этот вопрос возник уже давно, во время первого и единственного визита Гульда в Москву, он играл тогда эти Вариации, а потом был у Рихтера дома, и тот попенял ему, что, мол, надо обязательно все повторения делать).
На следующий день Монсенжон, встретив Рихтера, передаёт ему приглашение Глена Гульда. Сказал, что Гульд будет сам сидеть за пультом, а Рихтер может жить у него и может записывать всё, что он хочет. (Что записи плохие, конечно, не сказал!) Рихтер: “Записи? Я ненавижу записи! Нет-нет, большое спасибо, но это невозможно!”
На следующий день они снова видятся. Рихтер теперь начинает сам: “Так что вы говорите? Записи? Так это же надо ехать в Америку! Я ненавижу Америку! Нет-нет, исключено!” - “Но это же не совсем Америка, - робко говорит Монсенжон, - это Канада!” - “Это всё равно! Оставим этот разговор!”
Следующий день. Рихтер: “Вы говорите, это Канада? Но туда же надо лететь! Я не могу лететь! Я ненавижу самолёты! Мне и врачи запрещают летать! Так что видите, очень жаль, но ничего не выйдет!” - Монсенжон (робко): “Может быть, на пароходе?..” - “Что? Это же, наверное, целую неделю ехать?! Нет-нет, не уговаривайте меня!”
Прошло ещё несколько дней. Наконец, в последний деь фестиваля Рихтер подходит к Монсенжону и говорит: “Знаете что, я подумал, это всё-таки очень интересное предложение, и я, пожалуй, согласен. Я даже готов лететь в эту ужасную Америку! Но у меня есть одно условие! Одно совершенно обязательное условие: на следующий год Глен должен приехать ко мне на фестиваль и сыграть здесь публичный концерт!” - А Гульд, как известно, уже много лет не играл публичные концерты, только делал записи, отклонял любые, самые лестные предложения, потому что стремился к полному совершенству, которое в живом концерте - невозможно! Так что, когда Монсенжон вернулся в Канаду и передал Гульду всё это, тот сразу же наотрез отказался, и из всего проекта ничего не вышло!
9. Мы с Рихтером едем на машине из Ленинграда в Минск. Чтобы скоротать путь, он предлагает играть в игру: каждый называет что-нибудь одно, что ему очень нравится, потом дальше по кругу, потом снова. Повторяться и повторять то, что сказал другой - нельзя. Когда это надоест, называть то, что очень НЕ нравится. (Я подозреваю, что главным образом ему хотелось узнать что-то про меня - он меня мало ещё знал, а двух других попутчиков - племянника Н.Л.Д. Митю и его жену Таню знал достаточно). Приехав в Минск, я по памяти (но довольно точно) записал рихтеровские высказывания.
Итак, что ему ОЧЕНЬ нравится:
- ковырять в ушах
- “Море” Дебюсси
- Вагнер
- молоко
- небо
- собор Св. Стефана в Вене
- котята
- рисовать пастелью (раньше)
- синий цвет
- халва
- путешествовать
- прошлое
- экипажи
- играть в Игру (его собственную, очень сложную, на доске с фишками, вроде “Кто первый”)
- судьба
- театр
- опера
- “Дон Карлос” Шиллера
- Мария Каллас
- глазные линзы (раньше)
- опасность
- долгие прогулки
- гранаты (фрукты)
- Симфония Сука
- 5-й ноктюрн Шопена
- Леже
- красивые люди
- свобода
- удачные концерты
- сушёная японская еда (чипсы)
- порт
- летать во сне
- вишни
- жареная картошка ломтиками
- устраивать праздники
- дурачиться
- запах свежего постельного белья
- лазить вверх
- колокола
- чихать
- Венеция
- Венера Милосская
- улицы Рима
- Парижские кафе
- вода в Вене (не уверен, вкус воды или вид воды?)
- каталогизировать
- старый Житомир
А вот что ему ОЧЕНЬ НЕ нравится:
- газеты
- Ленинград
- важность
- безликая архитектура
- немцы
- велосипед
- ждать
- речи
- получать подарки
- жуки
- змеи, гусеницы
- гражданские панихиды
- случай
- туя
- красный цвет
- Андре Жид
- удить рыбу
- ордена
- очереди
- шахматы
- спорт
- политика
- телефон
- телевизор
- эстрадные песни
- намёки (в которых скрыто порицание)
- умываться, бриться
- ботинки
- яхты
Шостакович
Я встречался с Шостаковичем один раз. В 1965 году играл ему свои 24 прелюдии, в которых было очень много от него. Ему, вроде, понравилось (не всё! - поругал меня за слишком хроматический материал в одной прелюдии, а понравились ему, как ни странно, как раз очень простые, малонотные, наивные). Помню, он пришёл в кабинет Союза Композиторов РСФСР, одетый почти по-домашнему, в тапочках (он жил в том же подъезде в доме Композиторов на ул. Неждановой), помню, что он показался мне очень большим, почти громадным. Позже мне передавали, что была идея снова привлечь его к педагогической работе в Московской Консерватории, и мой профессор - Баласанян - вроде бы хотел меня отдать в его класс... Но у них там что-то не вышло, и Шостакович в Московскую Консерваторию так и не вернулся. (А стал преподавать в Ленинградской).
1. (Общеизвестно, но всё равно очень занятно)
Шостакович и Г.Нейгауз сидят в БЗК на концерте какого-то среднего пианиста. Нейгауз наклоняется к Шостаковичу и шёпотом говорит: “Отвратительно играет!” - Шостакович с улыбкой шепчет в ответ: “Да-да, совершенно очаровательно!” - “Нет, Дмитрий Дмитриевич, вы не поняли, я говорю - отвратительно играет!” - Шостакович с улыбкой в ответ: “Да-да, совершенно отвратительно!”
2. (слышал от Баласаняна)
Шостакович - профессор. Встречает в коридоре консерватории своего студента, который не появлялся у него уже три месяца. “Ну что же это, куда вы пропали?” - “Да понимаете, Дмитрий Дмитриевич, я вот уже три месяца пытаюсь найти вторую тему для моего квартета!” - “Нет, - говорит Шостакович, - вы должны не тему искать, вы должны просто квартет дальше писать!”
3. Баласанян рассказывал, что когда Шостакович в доме творчества в Иванове начал сочинять 8-ю симфонию, он за один день (!) написал всю первую часть одноголосно - только мелодию - на двух громадных партитурных листах и вечером показывал коллегам.
4. Я был в зале на премьере 14-й симфонии. Это была, собственно, не премьера, а открытая генеральная репетиция, специально для студентов и преподавателей Московской Консерватории. Но сыграли всю целиком, как на концерте. Перед началом Шостакович, что для него было в высшей степени необычно, сказал короткое вступительное слово. Он сказал, что все эти великие - Верди, Брамс, Берлиоз - писали Реквием с просветлением в конце, как будто смерть - это что-то умиротворяющее, а вот он - Шостакович - хотел показать смерть такой, какая она на самом деле - ужасная, чёрная, безнадёжная. “Я боюсь умирать!” - сказал он (и весь до отказа набитый зал с ужасом и почтением слушал это!). Во время исполнения какой-то человек встал со своего места и медленно двинулся к выходу. Все с негодованием смотрели на это кощунство. Но человеку просто стало плохо с сердцем, он добрёл до фойе и умер там на диване. Это был музыковед и критик Апостолов, который всю жизнь писал одни гадости про Шостаковича.
***********************************************************
Теперь, в связи с темой смерти, расскажу одну трагикомическую историю, которую пережил сам.
Маленький фестиваль в Швеции. Провинциальный городок. Музей. Играю на клавесине с другими артистами какую-то барочную музыку. Вдруг - в задних рядах публики движение, лёгкий шум. Продолжаем играть - особенно не мешает. В перерыве выясняется, что один старичок умер на месте. Узнали, кто он. Он, оказывается, выиграл билет на этот концерт в радио-лотерею. Пришёл в фестивальное бюро и говорит: “Вы знаете, не мог бы я получить стоимость билета просто деньгами, а то я не знаю, я никогда в жизни не был на концертах классической музыки, мне это как-то не интересно!” - А секретарша: “Да что вы! Это так приятно! Вы получите такое удовольствие!” - и уговорила его!
************************************************************
Фуртвенглер
1. (Одна из моих самых любимых историй, слышал её по немецкому телевидению в фильме про Фишера-Дискау, который сам же её и рассказывал)
Послевоенные годы. Фуртвенглер как раз отстранён от работы за “сотрудничество с нацистами”, зарабатывает на жизнь домашними концертами, но по-прежнему для всех музыкантов Царь и Бог. Молодому Фишеру-Дискау с большим трудом организуют встречу с Фуртвенглером. Приходит к тому домой. Ждёт. Фуртвенглера нет. После трёх часов ожидания Фуртвенглер является, недовольный, торопливый, хмурый. “Молодой человек, у меня почти нет для вас времени, я опаздываю на домашний концерт. Ну ладно, что вы можете мне спеть?” - Он садится за рояль, берёт наудачу какие-то ноты из стопки. “Вот, Шуберт, Зимний путь - это вы знаете?” - “Да” - отвечает Фишер-Дискау. - “Ну, попробуем!” - Фуртвенглер играет вступление, Фишер-Дискау начинает петь. После первых восьми тактов Фуртвенглер останавливается. - “Вы весь цикл знаете?” -“Да” - отвечает Фишер-Дискау. - “Отлично! Значит, сегодня вы со мной исполняете это на концерте!” - Они едут на концерт, там сидит уже виолончелист, ждёт. “Так, - говорит Фуртвенглер, - ты сегодня не играешь, я буду выступать с этим молодым человеком!”
Немного позже это был Фишер-Дискау, кто уговорил Фуртвенглера продирижировать первый раз в жизни Малера (который, как еврей, был при нацистах запрещён). В результате мы имеем одно из величайших чудес в интерпретации - запись “Песен странствующего подмастерья” с Фишером-Дискау и Фуртвенглером. С этой записи началась моя любовь к Малеру.
2. (Из малоизвестной статьи Лео Гинзбурга, дирижёра, замечательного педагога, профессора Московской Консерватории, пересказываю по памяти своими словами)
Л.Г., будучи совсем молодым дирижёром, поехал в Германию к Фуртвенглеру на стажировку. (Было это в короткое время относительной свободы в 20-х годах). Он сидел на всех репетициях Фуртвенглера. А тот готовил как раз 5-ю симфонию Бетховена. Дирижёры и оркестранты знают, что в этой симфонии очень трудно показать начало. Жесты Фуртвенглера были такие странные, непривычные для Л.Г., что тот в конце концов спросил одного знакомого оркестранта: “Скажи, как это вы можете вступать и играть по таким жестам? Ведь что он делает в начале симфонии? Крутит несколько секунд руками в разные стороны, потом наступает тишина, а потом вы все вступаете как один человек! Как это может быть?” - “Трудно объяснить, - ответил оркестрант. - Лучше всего, возьми скрипку (Л.Г. был и скрипач), сядь в оркестр на последний пульт, тогда сам поймёшь!” - Л.Г. так и сделал. Фуртвенглер начал репетицию. После его нелепых непонятных жестов наступила тишина, и потом, пишет Л.Г., поднялось что-то такое громадное в его душе, какая-то страшная неодолимая сила, он почувствовал, что вот сейчас, вот в этот самый момент он должен вступить. И он вступил - в унисон со всем громадным оркестром! Объяснения этому он так и не нашёл.
|
|
ТРИ ПРИТЧИ ПРО КОРОЛЯ И КОРОЛЕВУ
1. Король и олень
Король поехал на охоту. Очень долго ехал. Наконец, видит, бежит олень. Король поднял ружьё, выстрелил, олень упал, кровью обливается и говорит: “Зря ты меня убил, я не олень, а заколдованная принцесса, и я была предназначена тебе в жёны” - “Но у меня уже есть любимая жена!” - воскликнул король, а олень закрыл глаза и умер.
Приехал король домой, а ему говорят: “Несчастье, Ваше Величество, полчаса назад королева превратилась в оленя и убежала в лес” - король тут же поскакал обратно в лес, искать королеву, но так никогда больше её и не нашёл.
2. Голубая дверь
Король сказал королеве: “Делай в моём замке что хочешь, но умоляю тебя, приказываю тебе, никогда не заходи в эту голубую дверь, поверь, это для тебя же будет лучше!”
Король уехал на охоту, а королева побежала к голубой двери и открыла её. Там был накрыт стол со всевозможными яствами, за столом сидел прекрасный кареглазый юноша. Он поднялся навстречу королеве, поднёс ей стакан белого вина и поцеловал её в губы. И так он королеве сразу понравился, что она ответила на поцелуй, и они стали есть, пить и заниматься любовью. Юноша делал всё гораздо лучше, чем король, он был моложе, сильнее и изобретательнее. На прощанье он сказал королеве: “ Никому обо мне не говори! Приходи ещё!”
Король вернулся с охоты, внимательно посмотрел на королеву и ничего не сказал.
На следующий день король снова уехал на охоту, а королева побежала к голубой двери и открыла её. Сразу же на неё набросились чёрные люди, сорвали с неё всю одежду и, голую, привязали к пыточному станку, который теперь стоял посреди комнаты вместо пиршественного стола. Вошёл вчерашний кареглазый юноша и стал избивать королеву тяжёлой плёткой с острыми шипами, так, что кровь брызгала из ран. Королева кричала и задыхалась от невыносимой боли. Через некоторое время юноша сказал: “ Никому обо мне не говори! Приходи ещё!” - Её развязали и выкинули из комнаты.
Король вернулся с охоты, внимательно посмотрел на королеву, на её окровавленное тело, но ничего не сказал.
Целый месяц королева лежала в постели, её раны медленно заживали. Всё это время король каждый день уезжал на охоту и не говорил с королевой ни слова.
Когда королева, наконец, поднялась с постели, она пошла к голубой двери и открыла её. Там был ужасный смрад, там лежали мертвецы, голые, полуразложившиеся, и жирные изумрудные мухи, жужжа, летали стаями по комнате, задевая королеву по волосам и по лицу. Королева выбежала оттуда, зажав нос и рот, и её стало рвать от страха и отвращения.
Король вернулся с охоты и внимательно посмотрел на королеву. Она сказала ему: “Я нарушила твой запрет, ты это знаешь, я три раза была в этой комнате, за голубой дверью, прости меня, если можешь, и объясни, что всё это значит?”
Король сказал: “ Эта комната - моя душа. Скажи, хочешь ли ты остаться теперь со мной?” - “Да!”, - сказала королева, и они жили вместе ещё очень долго и счастливо, и королева родила ему трёх прекрасных сыновей с изумрудными, карими и голубыми глазами.
3. Король вернулся домой
Король долго был на войне. И вот он вернулся домой. Старый слуга Мартин выбежал навстречу, припал губами к стремени, к пыльному сапогу. Король спешился, обнял слугу.
- Ну, что королева?
- Тоскует, ждёт... - Мартин смотрел в сторону.
- Здорова?
- Да, ваше величество!
- Почему в глаза не смотришь? Что-то случилось?
Мартин с трудом повернул голову, посмотрел королю в глаза. Король ждал. Слеза медленно покатилась по морщинистому лицу Мартина.
- Вас два года не было, ваше величество, - голос его дрожал.
- Ах так, я этого ожидал. Кто он? - король не повысил голоса, говорил медленно, как всегда.
- Королева очень любит стихи, ваше величество...
- Значит, мой секретарь? Фердинанд? - король с усилием произнёс это имя, как будто не зная, на каком слоге сделать ударение. - Где он? Где они? - его рука машинально опустилась на рукоятку меча, висевшего на узорной перевязи через его плечо.
- Ваш секретарь Фердинанд год назад бросился с северной башни и разбился насмерть, - как хорошо выученный урок проговорил Мартин.
Наступило молчание. Король не находил слов. Наконец, сглотнув и коротко откашлявшись, он спросил:
- Так значит... что же это было?
- Мы не знаем, что это было, ваше величество. Мы только знаем, что Фердинанд год назад бросился с северной башни, разбился насмерть, а королева не пришла на его похороны.
- Ты испытываешь моё терпение, Мартин, - король уже не владел собой, говорил быстрее, неразборчивее. - Скажи мне ясно, изменила она мне? Если не с Фердинандом, то с кем? С этим мальчишкой Клаусом? Я помню, она уже тогда на него заглядывалась!
- Ваш юный паж Клаус... - и ещё одна слеза покатилась по щеке Мартина, - ваш хрупкий любимец Клаус полгода назад перерезал себе глотку охотничьим ножом и умер мучительной смертью.
Король остолбенело смотрел на Мартина. После долгой паузы он тихо произнёс:
- И королева...
- Не пришла на его похороны, - закончил фразу Мартин.
Король взорвался. Схватил Мартина за плечи, стал его трясти.
- Что ты мне голову морочишь, злодей! Отвечай, с кем она мне изменила! - теперь он просто кричал.
Мартин вряд ли мог что-нибудь сказать, так сильно тряс его король. Только отдельные слова вырывались: “...королева...ваше величество...отпустите...всё скажу...” - король отпустил его.
Мартин перевёл дыхание. Наконец, он начал говорить.
- Ваше величество, за эти два года, что вас не было, много мужчин побывало в этом замке. Девять странствующих трубадуров, три торговца оружием, шесть или семь проповедников - о них лучше и не вспоминать, одиннадцать рыцарей из соседних замков, какие-то актёры, аптекари, два марроканца а может быть испанца - ковры продавали, другие ещё, всех не перечислить... И все они умерли, да только не натуральной смертью - наложили на себя руки. А в нашем замке, кроме меня и старого нашего Бертрана-садовника, - помните его? - все мужчины тоже... последний, мой племянничек возлюбленный, трёх недель не прошло, нежный, семнадцати ещё не исполнилось, тоненький, в пруду утопился... - дальше Мартин продолжать не мог, рыдания душили его.
Король почувствовал, что ноги его не слушаются. Он сел, почти упал прямо на землю. Мартин рыдал. Дождавшись, когда рыдания стали более редкими, король едва слышно промолвил:
- И это всё из-за...
- Королева, ваше величество, вас очень любит... - Мартин говорил с трудом.
- А что же она... с ними... почему?..
- Мы не знаем, ваше величество, а вы пойдите к ней, пойдите, сами увидите...
Король молча поднялся с земли, медленно пошёл через широкий солнечный двор к дверям замка. Чем ближе он подходил, тем больше он чувствовал в воздухе и внутри себя какое-то странное дрожание, как будто пчелиный гул, только тысячекратно усиленный, заполняющий всё вокруг. И краски, цвета становились всё ярче, сильнее, разнообразнее, как будто король шёл через радугу. У него начала кружиться голова.
Он вошёл в зал, поднялся по лестнице в библиотеку, королева стояла у окна с книгой в руках, красивая, в длинном шёлковом платье. Она медленно повернулась, посмотрела на него. Король едва мог стоять от головокружения и мучительного чувства, в котором любовь была смешана со страхом и ужасом.
Королева сказала:
- Вот ты и вернулся. Я прочту тебе одно стихотворение из этой книги.
И она прочитала стихотворение, в котором говорилось о том, как одна королева любила стихи, и ещё она очень любила своего короля, так сильно, что вокруг неё, от стихов и любви, родилось и стало расти радужное облако, наполненное пчелиным гулом. И каждый, кто попадал в это облако, сразу же влюблялся в королеву, так страстно и так безнадёжно, что не мог вынести своих страданий и кончал жизнь самоубийством. А королева любила только одного - своего короля. А король уехал на войну, и его не было два долгих года.
И вот теперь он вернулся домой.
|
|
 |
 |
|
Томас Манн.
В честь поэта. Франц Кафка и "Замок".
Франц Кафка, автор чудовищно странного и гениального романа "Замок" и совершенно непохожей на него, но также необычайной повести "Процесс", родился в 1883 году в Праге, в полу-еврейской. полу-немецкой семье из Богемии, а умер (от чахотки) в 1924 году, то-есть в возрасте всего лишь сорока одного года.
На последней фотографии, сделанной незадолго перед смертью, он похож скорее на двадцатипятилетнего молодого человека, чем на сорокалетнего мужчину: робкое, меланхоличное лицо юноши, падающие на лоб черные кудрявые волосы, большие темные глаза, смотрящие пронизывающе-мечтательно, прямой нос, болезненные тени на щеках и необычайно изящный рот, в уголках которого играет полу-улыбка. Выражением искушенной невинности портрет этот весьма напоминает известное изображение Фридриха фон Гарденберга - Новалиса - немецкого романтика, серафического мистика, искателя "Голубого цветка", который умер так же рано, от истощения.
Но хотя Кафка и выглядит как восточноевропейский Новалис, я не мог бы назвать его ни романтиком, ни мистиком, тем более серафическим. Для романтика он слишком точен, реалистичен, слишком связан с жизнью, с простыми и естественными событиями. Его тяга к комизму - весьма своеобразному и парадоксальному - слишком выражена, чтобы он мог быть серафическим поэтом. Что же касается мистики, то хотя в разговоре с антропософом Рудольфом Штейнером он сказал, что прекрасно знает по своему опыту так называемое "состояние просветления", которое тот описывает, а свои произведения сравнил с неким "новым тайным учением", некой "каббалой", однако элемент трансцендентной скованности, перевоплощение чувственного в сверхчувственное, "сладострастные бездны", "брачное ложе могилы" и тому подобные атрибуты честной и правоверной мистики были наверняка чужды ему, и несомненно, мало что ему говорили Вагнеровский "Тристан", или "Гимны ночи" и "Любовь к мертвой Софии" Новалиса. Он был фантазером, сновидцем, и его вещи часто полностью задуманы и выполнены в характере сновидений, они до смешного точно подражают бессмысленному и удушающему шутовству сна, этой волшебной игре призраков жизни.
Но его произведения пропитаны разумной нравственностью, пусть с оттенком иронии, даже сатиры, даже отчаяния, нравственностью, вдохновленной верой в добро. правду, божественную милость, и нравственность эта находит свое выражение в добросовестно-деловом, исчерпывающем, корректном и и ясном стиле, который часто напоминает Адальберта Штифтера своим точным и почти казенным консерватизмом. А тоска этого фантазера связана не с мистически распускающимся "Голубым цветком", но с "блаженством обыденного".
Это последнее выражение взято из ранней новеллы автора этих строк, из "Тонио Крёгера", к которому Кафка питал особую симпатию, как мне сообщил его друг, соотечественник, издатель и комментатор Макс Брод. Бюргерски-артистический духовный мир этого рассказа был точнейшим образом воспринят Кафкой из глубин его совершенно иного - восточно-иудейского - гуманизма. Можно сказать, что "мучительные усилия", являющиеся темой такого произведения, как "Замок", трагикомический пафос, лежащий в их основе, есть ни что иное, как транспозиция и вознесение в область религии крегеровских страданий одинокого художника из-за простых человеческих порывов его нечистой бюргерской совести, порывов к "белокурому и обыденному". Возможно, сущность этого писателя лучше всего определяется словами "религиозный юморист".
Оба понятия, входящие в это довольно странное сочетание слов, нуждаются в пояснении. Брод сообщает, что Кафка долго находился под сильным впечатлением от одной истории, относящейся к последнему периоду жизни Густава Флобера. Великий эстет, который в аскетическом неистовстве пожертвовал всю свою жизнь нигилистическому идолу по имени "litterature", посетил со своей племянницей, мадам Комманвиль, ее друзей - славных и счастливых супругов, окруженных прелестными детьми. На обратном пути создатель "Искушения Св. Антония" был очень задумчив и беспокоен. Идя с мадам Комманвиль по берегу Сены, он все время вспоминал тот почтенно-непринужденный, здоровый и простодушно-ясный уголок жизни, в который ему довелось заглянуть. "Ils sons dans le vrai!" - повторял он, и эти слова, полные самораскрытия. из уст мастера, который исповедовал и вменял художнику в обязанность холодное отречение от жизни ради творчества - эти слова любил цитировать Франц Кафка.
Etre dans le vrai, жить в истине, в правде, - это для него значило - быть близ Бога, жить в Боге, жить праведно и по воле Бога, - а он чувствовал себя очень далеко от этого состояния сокрытости в правде и в Божьей воле. То, что "литературная работа была моей единственной потребностью, единственным призванием", как ему представлялось раньше, должно было бы теперь измениться, ведь на то была, кажется, Божья воля? "Но нет", - так он писал в 1914 году, когда ему был 31 год, - "моя склонность изображать свою внутреннюю полупризрачную жизнь отодвинула все остальное в сторону, и все остальное страшным образом чахнет и не перестает чахнуть". "Часто", - добавляет он в другой раз, - "меня охватывает печальное, хотя и спокойное изумление перед собственной бесчувственностью... как будто из-за моих литературных занятий, я стал по отношению ко всем другим вещам нелюбопытен и бездушен".
Это печально-спокойное ощущение на самом деле есть величайшее беспокойство, а именно - религиозное беспокойство. Ожесточаться и "чахнуть" от страстной любви к искусству - это, несомненно, далеко от Бога и противоречит жизни в Истине и в Правде. И все же, эту, ко всему остальному равнодушную страсть можно понять и представить как некий этический символ. Искусство не есть необходимый плод, смысл и цель неистово-аскетического отречения от жизни, как у Флобера, оно может быть формой этического выражения самой жизни, причем именно в жизни, а не в "произведении" и будет заключаться вся суть. Тогда жизнь - это не пустое бездушное средство для воплощения некоего эстетического идеала совершенства, а деятельность этического жизненного символа, и цель этой деятельности не есть объективное совершенство, но субъективное сознание того, что ты делаешь все от тебя зависящее, чтобы наполнить свою жизнь осмысленной работой, не менее ценной, чем любой другой человеческий труд.
"Уже несколько дней я пишу", - сообщает в одном письме Кафка, - "О, если бы это состояние можно было удержать! Моя жизнь теперь имеет оправдание. Я снова могу разговаривать с собой и не чувствую этой ужасной пустоты. Только на этом пути для меня есть какое-то улучшение." Еще немного, и он сказал бы "спасение" вместо "улучшение" - религиозный смысл того, что он выздоравливает с пюмощью работы, стал бы от этого еще отчетливее.
Искусство, как воплощение предначертаний, данных Богом, как честно сделанная работа, - такое искусство дарит нам смысл - не только в формально-логическом, но также в этическом значении этого слова. Так же, как оно возвышает действительность до правды, так и субъективно, по-человечески, оно дает нам жизнь, смысл и оправдание. Такое искусство, с субъективной точки зрения, есть деяние, равное любому другому, оно есть средство жить "в истине" или хотя бы приближаться к ней, оно включено в человеческую жизнь.
Иоганну Вольфгангу Гете - которого Франц Кафка, этот поздний, полный сомнений, неверия, почти до отчаяния сложный представитель немецкой словесности, чтил искренне и без всяких сомнений - принадлежит глубокое изречение: "Чтобы уйти от мира, нет ничего надежнее искусства, и чтобы связать себя с миром, нет ничего надежнее искусства". Удивительная мысль. Одиночество и социальность находятся здесь в синтезе, который поразил бы Кафку, хотя вряд ли бы он захотел и смог по достоинству оценить этот синтез, - ведь творческая деятельность Кафки основывалась на разорванности и на ощущении божественной дали, нетварности. То счастье и та благодарность, которые он испытывал, когда мог работать, должны были доказать ему, что искусство связывает нас не только с миром, что оно связывает нас с моральным, с божественным, с истинным, именно через свой двуединый смысл, через символическую глубину идеи "хорошего". То, что художник называет "хорошим", "хорошо сделанным", и чего он мучительно пытается в своей сокровенной игре, где шутка перемешана с болью, - это "хорошее" есть подобие, и больше чем подобие истины и блага вообще, оно есть некий субститут всех человеческих стремлений к совершенству; и произведения Кафки очень "хороши", они сделаны с честностью, терпением. верностью природе, добросовестностью (хотя всегда иронической, даже пародийной, таинственным образом побуждающей к смеху), любовью и заботой - все это доказывает, что он не был лжецом, но некоторым запутанным образом верил в добро и истину. А разлад между Богом и человеком, неспособность людей познать добро, соединиться с ним и жить в истине, - он сделал темой своих творений, каждая страница которых свидетельствует о добрых намерениях, окрашенных отчаянием в фантастически-юмористические тона.
Его произведения выражают чуждость художника (к тому же еврея!) патриархальному укладу жизни, выражают его одиночество среди этих поселян, живущих у подножья Замка, врожденное одиночество, которое само себя уничижает и насколько прямодушно, настолько безнадежно ищет и домогается укоренения в общем порядке, права на гражданство, приличной должности, брака, короче говоря - "блаженства обыденного". В его произведениях - необузданные и всегда терпящие крах добрые намерения "жить в истине". "Замок" - сплошь автобиографический роман. Герой, от лица которого в первом варианте ведется повествование, зовется К., и все эти его мучения и гротескные неудачи писатель сам пережил почти в том же виде. В биографии Кафки есть грустная история одной помолвки, представляющая собой совокупность всех возможных неудач, и в романе "Замок" выдающуюся роль играют подобные судорожные попытки обрести "Бога" с помощью создания семьи, путем параллельного развития с некой естественной формой жизни.
Ведь ясно же, что благопристойное укоренение в обществе, неустанные попытки превратить чуждость в патриархальность - для К. только средство, чтобы улучшить или хотя бы просто установить отношения с "замком", т.е. обрести Бога, благодать. В шутовской сомнамбулической символике романа селение представляет жизнь, землю, общество, благопорядочность, довольство человечески-бюргерского единения, а замок - божественное, небесные предначертания, благодать, во всей ее загадочности, недоступности, неосязаемости - и нигде божественное, сверхчеловеческое не созерцается, не переживается, не характеризуется такими своеобразными средствами, так остроумно и отважно, с таким неисчерпаемым богатством благочестиво-богохульной психологии, как в этой книге, рассказывающей о человеке, мучительно и непоколебимо добивающегося благодати и так страстно и безоглядно в ней нуждающегося, что он не брезгует даже плутнями и уловками, чтобы только к ней прокрасться.
Ведь вот что важно, вот что полно религиозно-комического, трогательно-интригующего значения: вопрос, действительно ли К. вызван на должность землемера конторой графа, или ему это только кажется, или он обманывает людей, чтобы войти в их общество и достичь благодати - этот вопрос остается открытым до конца романа. В первой главе, во время телефонного разговора с "верхом", на вопрос, был ли К. вызван, сперва без обиняков дается отрицательный ответ, так что на какой-то момент К. кажется разоблаченным как бродяга и мошенник. Затем следует поправка, его землемерство сверху довольно неопределенно признается действительным, хотя при этом у него самого есть ощущение, что это узаконивание его притязаний совершено из-за "духовного превосходства" и с намерением вступить с ним в "шутливую борьбу". Еще выразительнее второй телефонный разговор, который К. сам ведет с замком во второй главе, когда уже при нем состоят оба причудливо-призрачных помощника, которые присланы ему замком, и в которых он все же видит своих "старых помощников". Тот, кто это прочел, кто слышал вместе с К. это "множество бесчисленных разноудаленных детских голосов в трубке", эти отрицательные ответы, которые служащий "не совсем грамотно" дает оттуда сверху беззастенчиво лгущему претенденту, стоящему внизу, у трактирного телефона, - тот не остановится, пока не проживет и не прочувствует всю эту длинную. основательную и невероятную книгу, чтобы в мучительных грезах вперемешку со смехом вникнуть в почтенно-злокозненный, дразнящий, "совсем иначе" устроенный, иноименный порядок и нрав небесных сфер.
Наиболее объективная характеристика этих сфер дается устами "Начальника" в пятой главе, где, кроме того, разъясняются своеобразные явления, сопутствующие телефонным разговорам с замком, и мы узнаем, что подобная связь весьма ненадежна и иллюзорна, что нет никакой центральной станции, которая передавала бы звонки дальше, что мы попадаем лишь в самые незначительные канцелярии, в которых к тому же телефоны не работают, а если и работают, то мы получаем несерьезные ответы. Я не могу не указать на этот ошеломляющий разговор между К. и Начальником. Но не только на него. Гротескная несовместимость человеческого и трансцендентного, несоизмеримость божественного с земным, необычность, жуть, демонический абсурд, Нечто, не позволяющее о себе говорить, жестокость, даже безнравственность (по человеческому понятию) Высшей Силы - "Замка" - все это разрабатывается всеми средствами, играет всеми красками, без устали, на протяжении всего романа. Это самый благочестиво-отчаянный, самый упорный "бой с ангелом", который когда-либо велся, а то, что в этом бою есть юмор, есть дух святой сатиры, дух, совершенно не затрагивающий сам факт божественного, абсолютного - это неслыханно ново и полно трогательного риска. Кафка является религиозным юмористом в том и вследствие того, что неизмеримость, непонятность горнего мира, то, о чем человек не в силах судить, он видит и показывает не помпезно-патетически, не с помощью грандиозного подъема к потрясающей вершине, как это обычно пытаются сделать поэты, - он воспринимает и описывает все это как какое-нибудь австрийское казначейство, как разветвленно-мелочную. жесткую, неприступную и не поддающуюся учету бюрократическую систему, необозримое хозяйство актов и инстанций с невнятной служебной иерархией и неуловимой ответственностью служащих - т.е., как я сказал, сатирически, но при этом сохраняя глубочайшую веру, искреннейшую покорность, вдохновленную неустанной борьбой за проникновение в таинственное царство Благодати, только эта покорность рядится не в патетические, а именно в сатирические одежды.
Известно, что когда Кафка читал друзьям начало "Процесса", который специально посвящен божественной Справедливости, в то время как "Замок" больше занят Благодатью, то у слушателей выступали слезы от смеха, а сам автор так хохотал, что иногда это мешало ему читать. Это очень глубокое, непростое веселье, и без сомнения, оно сопутствовало и чтению отрывков из "Замка". Но если подумать, что смех, смех со слезами, порожденный серьезными причинами, - это лучшее, что у нас есть, лучшее, что остается на нашу долю, то нужно согласиться со мной и причислить произведения Кафки, полные страдания, юмора и любви, к самому ценному, что дала нам мировая литература.
"Замок" остался неоконченным, но по-видимому, не хватает одной главы, не больше. Автор рассказывал друзьям конец. К. умирает - просто изнуренный своей борьбой за то, чтобы войти в общину и быть признанным Замком. Жители деревни окружают смертное ложе чужеземца, и в самую последнюю минуту сверху поступает указ, в котором сказано, что хотя притязания К. на то, чтобы жить в деревне, и незаконны, но все же, принимая во внимание - вовсе не его честные стремления, но "определенные побочные обстоятельства" - ему разрешено здесь жить и работать. Ну вот, стало быть, это Благодать. И Франц Кафка, когда умирал, тоже наверняка запечатлел ее в своем сердце, тихо, без горечи.
- Перевел с немецкого Василий Лобанов (около 1973)
|
|